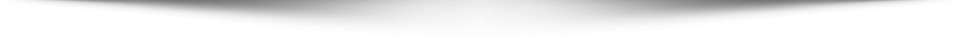Декан историко-филологического факультета, проректор педагогического института, кандидат исторических наук и просто любимый несколькими поколениями студентов преподаватель истории СССР Василий Сергеевич Черников на лекциях частенько добавлял к сухим научным текстам живые рассказы о Великой Отечественной войне, на которую попал почти сразу после школьного выпускного и прошел фронтовыми дорогами ее всю — от Сталинграда до Берлина.
Свои воспоминания о войне В.С. Черников назвал «Изюминки в черном хлебе войны». Повесть была напечатана в 1993 году в казахстанском журнале «Нива» и теперь уже, как принято говорить, стала библиографической редкостью, поэтому редакция решила познакомить читателей с мемуарами участника величайших событий ХХ века. Некоторые главы печатаются с сокращениями.

С годами память все чаще возвращает назад: обрывок мелодии, рожденной ревущими, грохочущими сороковыми, схваченный мимолетным взглядом телевизионный кадр, воссоздающий живую картину былого, прочитанная поэтическая строфа, пахнущая порохом и кровью, способны перенести на полстолетия назад, к берегам Волги и в степи Украины, в песчаные равнины Польши и на широкие автобаны Германии. И тогда видения прошлого овладевают сознанием, обрастают плотью, становясь живыми образами давно прошедших дней. Бои, переправы, марши, привалы, бомбежки, артналеты, дымящиеся на дороге кухни, разматывающаяся на ходу обмотка и склонившийся над ней солдат, последняя воинская почесть над вечным покоем боевых товарищей — все подбрасывает память в эти минуты.
 И сколько людей встает перед мысленным взором, обращенным в прошлое…
И сколько людей встает перед мысленным взором, обращенным в прошлое…
Это — рассказ о днях войны, о черном хлебе ее и о людях на войне — изюминках войны, с кем связала меня лихая година. Одни из них покоятся вечным сном в братских могилах, другие ушли в мир иной после войны, третьи, оказавшись на дне жизни после очередной революции в тяжком раздумье возвращаются к традиционным вопросам нашего бытия: кто виноват? И что делать? Возвращаются и не находят ответа… Память о всех вас нетленна…
Дорога в войну
Мои армейские университеты начались в конце 41-го в начальном классе полковой школы, откуда я был переведен в средний — военно-политическое училище, которое, по независящим от ученика причинам, закончить не удалось.
Это было время, когда газеты и радио упивались нашими победами под Ростовом и Тихвином, Москвой и Калинином, когда с союзниками договорились об открытии в 1942 году второго фронта в Европе, когда ждали взрыва европейского и, прежде всего, германского тыла, иначе говоря, революции, обещанной товарищем Сталиным в его докладе б ноября 1941 года. Ждали не только мы, ждали вся армия и весь народ — в своем приказе 1 мая 1942 года Верховный приказал уже в текущем году очистить советскую землю от фашистских мерзавцев. Словом, по нашему разумению, дело шло к победоносному окончанию войны, в чем не сомневались и наши воспитатели — комиссары со шпалами в петлицах и звездочками на рукавах гимнастерок.
 Наш телячий восторг приугас после харьковской катастрофы в мае 1942 года, когда Совинформбюро впервые с начала войны объявило о 70 тысячах пропавших без вести. Как известно теперь, в тех боях наша армия потеряла 240 тысяч попавших в плен.
Наш телячий восторг приугас после харьковской катастрофы в мае 1942 года, когда Совинформбюро впервые с начала войны объявило о 70 тысячах пропавших без вести. Как известно теперь, в тех боях наша армия потеряла 240 тысяч попавших в плен.
И как удар дубиной по голове — знаменитый приказ 227, зачитанный перед строем всего училища, — у нас уже нет преимущества перед врагом ни в людских резервах, ни в хлебе, ни в металле, ни в других материальных ресурсах. Отступать дальше — значит загубить Родину. А как же с плакатами 41-го «Наши силы неисчислимы»? Как же с освобождением Родины от мерзавцев в 42-ом?.. И вослед ему другой приказ — училище расформировывается, все курсанты направляются в действующую армию.
Так я стал заместителем политрука роты противотанковых ружей (ПТР) 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии, находившейся на пополнении в районе Красноуфимска после весенне-летних боев. Дивизия пополнялась сибиряками, уральцами, моряками Тихоокеанского флота, а также маршевыми командами, следовавшими из госпиталей.
В роте ПТР 14 моряков. По возрасту, жизненному опыту, военной выучке нам, салажатам, с ними не сравняться. Каждое утро начинается с моей политинформации в присутствии политрука, сводящейся к обзору газет. Готовлюсь старательно — моряки любят подковырнуть разного рода вопросами…
Как всегда в армии, приказ приходит неожиданно: в 21- посадка в эшелоны. Недолгие сборы, уплотненный ужин, посадка без обычной кутерьмы в эшелоны и — вперед, на запад!
Куда едем? Вот вопрос, занимающий всех. Проносятся города, села, станции… Я и сейчас не могу восстановить маршрут нашего движения к Сталинграду: высадились мы где-то северо-западнее Камышина, неделю шли колонной, зорко всматриваясь в небо, ночью переправились на левый берег Волги, и снова тяжкий марш по выжженной солнцем безводной заволжской степи.
Ночь на 21 сентября и последующий день мы провели в прибрежной лесистой полосе, в 500-700 метрах от берега. В темноте ночи город выглядел сплошным зловещим костром, вытянутым в длинную тонкую линию на десятки километров вдоль реки. Огненные жгуты, ввинчиваясь в небо, казались лавой, выбрасываемой десятками разбушевавшихся вулканов. Как там держатся люди?
 12 сентября немцы широким фронтом вышли к сталинградскому оборонительному обводу и завязали бои за город. Выходом к Волге им удалось рассечь связь 62-й и 64-й армий. Еще раньше, 23 августа, подвергнув город ожесточенной бомбардировке, они прорвались к Boлгe в ее северной части. Таким образом, противнику удалось создать охватывающую подкову, концы которой упирались в Волгу. Расстояние между ними составляло 30-35 километров, глубина обороны не превышала 5-8. Главный удар Паулюс наносил в центр 62-й армии, командование которой с 12 сентября принял генерал-лейтенант Чуйков.
12 сентября немцы широким фронтом вышли к сталинградскому оборонительному обводу и завязали бои за город. Выходом к Волге им удалось рассечь связь 62-й и 64-й армий. Еще раньше, 23 августа, подвергнув город ожесточенной бомбардировке, они прорвались к Boлгe в ее северной части. Таким образом, противнику удалось создать охватывающую подкову, концы которой упирались в Волгу. Расстояние между ними составляло 30-35 километров, глубина обороны не превышала 5-8. Главный удар Паулюс наносил в центр 62-й армии, командование которой с 12 сентября принял генерал-лейтенант Чуйков.
14 сентября противник нанес удар огромной силы на широком фронте от р. Царица до Мамаева кургана. При поддержке авиации и танков мотопехота ворвалась в город. В этот день, признавал Чуйков, все висело на волоске. Для обороны переправы были брошены работники штаба и политотдела армии вместе с подразделениями народного ополчения.
В ночь на 15 сентября 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Родимцева, переправившись в город, отбросила противника на 1-1,5 километра, заняв вокзал. Но положение оставалось критическим: немцы атаковали со все возрастающей силой, тесня дивизию к Волге. Сегодня на каменной стене, обозначающей передний край обороны тех и последующих дней, в память потомству начертано: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, они победили смерть». От стены до берега Волги — 57 шагов…
Дни и ночи Мамая
Вечером 25 сентября — неожиданный вызов к комиссару полка, от которого узнаю о тяжелом ранении политрука роты и назначении меня на эту должность. Краткий инструктаж, ежедневные политдонесения к 18-00, обещание помощи в работе, пожелание успеха — едва ли я выговорил десяток слов на этой аудиенции у норы, вырытой в обрыве крутого берега.
Перед рассветом 26-го я поднялся по склону Мамая, где держал оборону 1-й стрелковый батальон, которому были придано два взвода нашей роты. К этому времени они располагали вырытыми котлованами для будущих блиндажей, рельсами и шпалами для перекрытия, снятыми с проходящей около кургана железной дороги…
…После 17 октября интенсивность боев на кургане значительно ослабла, эпицентр сталинградских боев переместился в заводской район, где на направлении главного удара врага стояла сибирская дивизия генерала Гуртьева. С высоты кургана мы видели и воздушные, и танковые атаки, и действия немецкой пехоты, когда казалось, что все кончено, оборона смята, раздавлена; но, как из небытия, вновь и вновь поднимались наши пехотинцы и шли в контратаку, поддерживаемые огнем заволжской артиллерии. И снова вставал тот сентябрьский вопрос: “Как там держатся люди?»
 Нам предстояло пройти еще много дорог войны — тяжелые изнурительные бои на плацдарме у Северного Донца, у знаменитой Голой Долины… Но все это меркнет перед жестокими, кровавыми схватками лицом к лицу с врагом на Мамаевом кургане.
Нам предстояло пройти еще много дорог войны — тяжелые изнурительные бои на плацдарме у Северного Донца, у знаменитой Голой Долины… Но все это меркнет перед жестокими, кровавыми схватками лицом к лицу с врагом на Мамаевом кургане.
Конец сентября и первая половина октября были временем жестокого противоборства сторон, преследующих свои цели. Мы стремились овладеть вершиной кургана, лишив немцев возможности просматривать переправу, ближние тылы, артпозиции. Фашисты, в свою очередь, пытались сбросить нас с кургана, а при удаче выйти к Волге, вбить еще один клин в живое тело армии.
Смешались воедино дни, когда мы отражали по 5-6 жестоких атак, и поздние вечера, когда мы штурмовали вожделенную вершину кургана. Штурмовали небо, физически изнуренные и полуголодные, — 600 граммов хлеба, утренний котелок перлового супа на двоих и вечером — той же каши с кусочками мяса, чай, столовая ложка сахара, конечно, не могли восстановить немыслимые затраты физических и душевных сил человека в экстремальных условиях боевой обстановки.
Бесило тупое упрямство, с каким мы пытались овладеть пиком кургана — получасовой артналет, нестройное, в несколько голосов, «ура», ответный автоматно-минометный огонь, общее залегание, стоны раненых, переползание в свои окопы тех, кто мог это сделать. Ночь, темень (гореть тут уже нечему!), ядреный мат – и так из вечера в вечер… Лишь в начале второй декады октября прекратили атаки и, подтянув свои позиции к немецким траншеям на 80-100 метров, имитировали успех.
Как в калейдоскопе, вспоминаются события на Мамае, которые теперь уже невозможно восстановить во временной последовательности… Раннее утро, ясное безоблачное небо: «Юнкерсы» начинают обработку наших позиций и ближайших тылов: волна за волной накатываются армады бомбардировщиков; зайдя над целью, они бросаются в стремительное пике, издавая сиренами душераздирающий вой, который, кажется, выворачивает кишки к горлу; из-под крыла вываливаются видимые черные капли, увеличивающиеся в объеме, а затем теряющиеся в пространстве, глаз перестает фиксировать ускоряющееся падение бомбы. Адский грохот: лежа в окопе, чувствуешь сотрясение земли спиною. А поток «капель» из-под крыльев самолетов все нарастает; лежишь лицом вверх и ожидаешь, что вот эта — твоя. Прямые попадания в окопы, траншеи, блиндажи все учащались — количество переходило в качество. И главное — ты обречен на бездействие, ты бессилен что-либо предпринять, покорно ожидая своей участи. Разве лишь закручивание цигарки как-то отвлекало на миг…
 Но самое, может быть, интересное последовало после боя. К атакам как-то привыкали, они становились частью повседневности. А вот услышать-увидеть такое довелось впервые. Когда комбат Устюжанин благодарил ребят за отражение атаки, за подбитые танки, обнял и расцеловал Колю Шувалова, он, крепыш-сибиряк, смущаясь от похвалы и словно оправдываясь, повторял и повторял: «А чо они? А чо они? А чо они?»… Так оправдывались мы в детстве перед своими матерями после очередной потасовки со сверстниками, хлюпая разбитыми носами и размазывая кровь по лицу… Этот эпизод, по моему разумению, высвечивает одну из черт русского национального характера.
Но самое, может быть, интересное последовало после боя. К атакам как-то привыкали, они становились частью повседневности. А вот услышать-увидеть такое довелось впервые. Когда комбат Устюжанин благодарил ребят за отражение атаки, за подбитые танки, обнял и расцеловал Колю Шувалова, он, крепыш-сибиряк, смущаясь от похвалы и словно оправдываясь, повторял и повторял: «А чо они? А чо они? А чо они?»… Так оправдывались мы в детстве перед своими матерями после очередной потасовки со сверстниками, хлюпая разбитыми носами и размазывая кровь по лицу… Этот эпизод, по моему разумению, высвечивает одну из черт русского национального характера.
«А избы горят и горят…»
Тяжкую военную страду делили с нами девушки — ротные санитарки, телефонистки, радистки, фельдшерицы и врачи полковой санроты. Труднее всего было первым. Со школьных парт и из студенческих аудиторий, из привычно сложившегося быта, заполненного уроками и лекциями, «читалками» и экзаменами, встречами с подругами и редкими еще мимолетными минутами свиданий с тем, кого уже выбрало сердце, они в 18-20 лет по доброй воле и движению души оказывались на войне.
На войне тяжко было всем. Бывали минуты отчаянного положения, когда, казалось, исчерпаны без остатка все физические и нравственные силы. Девушкам было труднее во много раз: они особенно тяжело переживали боль и страдания людей, их смерть на поле боя или в воронке от снаряда, куда они только что доставили с неимоверными усилиями раненого, ежесекундно рискуя собственной жизнью. Иногда в такие минуты где-то на самом краешке сознания всплывало мамино: «Шарф надень… Чаю с малиной… Таблетку аспирина…» Господи, да была ли когда-нибудь эта жизнь? Может, ее и не было вовсе… И ни слез, ни жалоб, ни сожалений об избранной дороге в войну…
Маша Зиновьева, санинструктор 3-ей стрелковой роты, обратила на себя внимание новичков полка еще на пути следования эшелона на фронт. Родись она на полста лет пораньше да не дивчиной, а парнем, — стоять бы ей на правом фланге гвардейского Преображенского полка. Высокого роста, широкая в кости, ослепительная блондинка с чудными косами, уложенными короной на голове, что еще более подчеркивало ее стать; огромные, внимательные серые глаза, широкий румянец на щеках — вот такой запомнилась она с первой встречи на какой-то остановке эшелона. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», — именно о таких женщинах в русских селеньях писал Некрасов. В Сталинграде надо было остановить не коня — фашизм, войти не в горящую избу — в горящий город. С первых минут пребывания на передовой — вынос раненых с поля боя, перевязка, отправка, а часто и сопровождение их на берег; выколачивание бинтов, индивидуальных пакетов — все это стало содержанием ее жизни,
В кошмарный день 14 октября, когда неизвестно какая по счету атака докатилась до наших траншей, Маша хладнокровно расстреливала из трофейного парабеллума наиболее ретивых вояк, а когда кончились патроны, схватила саперную лопатку убитого солдата и бросилась в рукопашную схватку с немцами, ворвавшимися в нашу траншею. «Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне; кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», — точно сказала Юлия Друнина. Маша не видала бой, она участвовала в нем, в рукопашном… Одной из первых в полку, еще до окончания боев в городе, она была удостоена ордена Красной Звезды.
Новый год полк встречал в три этапа в подвале мясокомбината, расположенного поблизости от Мамая. Трижды агитатор полка выступал с краткой информацией о положении на фронтах, трижды повторял свой репертуар солдатский хор, сколоченный Машей. Звучали песни войны, родные сибирские напевы о ямщике, замерзавшем в степи и отдававшем последний наказ жене; о бродяге, бежавшем с Сахалина «звериной, узкою тропой», и, конечно, песня «Далеко-далеко степь за Волгу ушла…»
Успех новогоднего вечера с его организаторами разделили разведчики, разыскавшие склад какого-то заводского ОРСа и экипировавшие девчат по-цивильному. Трудно передать чувства собравшихся, когда из полутемного угла на ярко освещенное возвышение, наспех сколоченное саперами, вышла Мария в крепдешиновом платье вишневого цвета с высоким закрытым воротником, отделанном кружевами, в туфлях на высоких каблуках, шелковых чулках телесного цвета, с роскошными косами, ниспадавшими до талии. Видимо, окопников Сталинграда в этот вечер не столь тронули щемящие, до боли сердечной знакомые мелодии, слышанные сибиряками еще в детской колыбели, сколько вид девушки из той, далекой теперь мирной жизни, так живо напоминавшей матерей, жен, любимых. Редко выпадают на фронте минуты просветленного умиления души, потому так благодарны были солдаты Марии за этот незабываемый вечер.
Расходились по своим землянкам и блиндажам за полночь. Над растерзанным городом висела звенящая тишина, лишь изредка прерываемая металлическим ворчанием вражеских пулеметов. Я решил переночевать у друга — Саши Томилина, и мы вместе с Машей поднимались на Мамай. Несмотря на полный успех вечера, девушка была грустна и молчалива. Остановились отдышаться после крутого подъема, и тут у нее неожиданно вырвалось: «Ох, как жалко этих ребятишек!» Уловив мой недоуменный взгляд, она запальчиво, торопливо, словно боясь, что ее прервут, продолжала: «Сколько их похоронили там…» Девушка показала в сторону братской могилы: «А сколько еще ляжет, а до Берлина так далеко. Туда придут другие, не мы. Нет, не мы, другие»…
Добравшись до ее блиндажа, мы остановились в траншее. Она оставалась во власти охвативших ее дум: «Отец погиб под Киевом в 41-м, я бросила университет и теперь прохожу науку вот здесь, — широкий жест правой руки описал полукруг. — Мать с двумя пацанами голодает в деревне. Сколько же на нас навалилось всего?.. За что? Ну за что? Кто мне ответит?..»
Неожиданно сбросив оцепенение, она повернула голову в сторону водонапорных баков, находившихся еще в руках противника, и я увидел обычную задорную Машу: «Ну и дадим же гадам! Что нам делать? Надеяться: живы будем — не помрем», — и исчезла за дверью блиндажа.
В бою за Запорожье в ночь на 14 октября 1943 года она была тяжело ранена и в строй более не возвратилась…
Словно магниевой вспышкой высветило из юности образ Маши Зиновьевой стихотворение Наума Коржавина, пополнившего в свое время «население» Карлага:
Столетье промчалось, и снова,
Как с тех незапамятных лет,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд,
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят…
Когда и где закончится многовековой, стремительный бег косяков русских коней? Когда перестанут гореть избы на наших улицах? Время не дает ответа на эти вопросы…
(Продолжение следует).
Подробнее об истории города читайте в нашем проекте Исторический Петропавловск